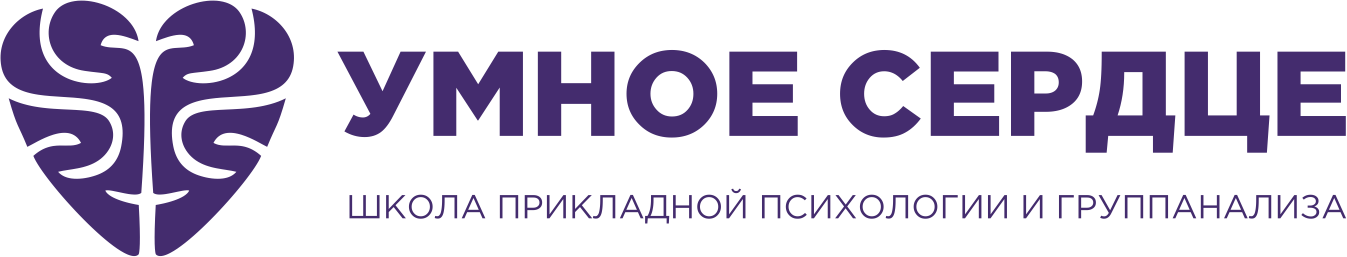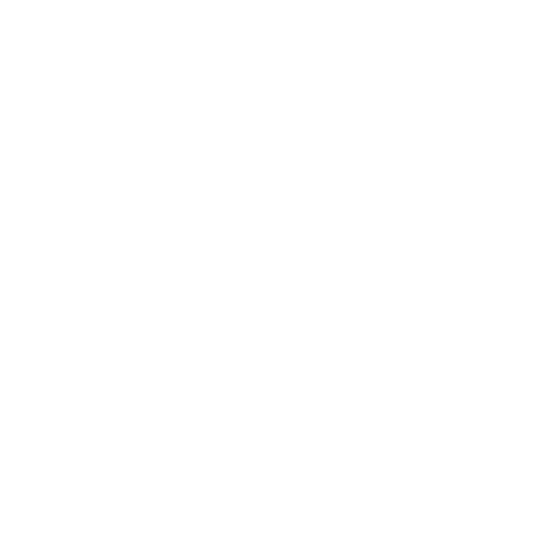
Мне хотелось бы в этой работе отметить те теоретические аспекты, которые помогли мне начать свою практику группаналитика, послужили мне опорой, а также и ориентирами, позволяющими держать курс и продвигаться вперед даже в минуты непонимания, бессилия и тревоги. Мне хотелось бы надеяться, чтобы данная работа может стать полезной таким же, как я, начинающим группаналитикам справляться с возникающими трудностями и страхами на сложном пути профессионального становления.
Необходимо отметить, что данная работа - это не попытка написания программы обучения группаналитика, а мои размышления и мое понимание тех теорий психоанализа и группанализа, которые помогли мне сориентироваться, стали для меня чем-то вроде твердой почвы под ногами.
Для удобства, я разделила свое изложение на несколько глав. Их последовательность отражает последовательность проблем и вопросов, с которыми я сталкивалась в своей работе с тренинговой группой.
Вопрос «Как собрать группу?» я опустила, хотя, наверное, это один из насущных вопросов, которые интересуют начинающего группаналитика. Для меня, специалиста, к тому времени ведущего индивидуальный прием - не составляло труда формирование группы. На первый план для меня вышли другие вопросы:
- Любому ли человеку можно предложить групповую терапию?
- Что ответить на вопрос пациента: как группа поможет мне решить индивидуальные проблемы?
Моим размышлениям в ответе на эти два вопроса и посвящена первая глава.
Во второй главе содержаться мои соображения по вопросам:
- Что делать на первых сессиях группы?
- Как сохранить участников группы и группу и как сохранить себя как ведущего?
Затем, в третьей главе, следуют мои размышления и теории, на которые я опиралась в вопросах развития групповой динамики.
В Заключении я постараюсь подвести итоги изложенного выше.
Главы получились разные по стилю написания и даже по эмоциональности. Я решила «не подгонять» весь текст под единый стиль. Так писалось: текст - отражение моего состояния и творческого накала при ведении моей первой группы. Я не знаю, делается ли так в теоретических дипломных работах…
«Дирижер подбирает членов группы, руководствуясь предположением, что польза, которую индивид может извлечь из работы, направленной на свободное выражение своего конфликта в группе, тесно связана с уровнем коммуникации доступных группе. Он пытается собрать группу, в которой будет оптимальное разнообразие личностных черт и нарушений… следует принципу, в соответствии с которым ни один член группы не должен почувствовать себя в изоляции» [1].
Однако, в группаналитическом сообществе нет согласия по вопросу какие пациенты «способны к групповой работе», а какие нет. Михаэль Хайне в своей статье «Определение показаний к групповой терапии» приводит цитату Барде: «в литературе по этой теме существует столько противоположных точек зрения, сколько есть групп-аналитиков, высказывающихся по этому поводу» [6].
Эрик Берн в труде «Групповое лечение» говорит: «…почти любой пациент может быть включен в лечебную группу после соответствующей подготовки..» [2]. Место принятия решения для меня, как начинающего ведущего группы, находится за словом «почти»: кто же все-таки не может быть включен в группу?
1. они касаются только начинающих практику специалистов;
2. речь идет о группах, формирующихся вне стационаров, т.е. долгосрочных терапевтических группах с открытой датой завершения терапии.
В своих размышлениях о формировании группы я пришла сначала к вопросу: «Зачем человек приходит на психотерапию?», а через поиски ответов на данный вопрос к исследованию понятия психологического здоровья в психоанализе.
Отто Кернберг на основе анализа работ психоаналитиков разных школ и подходов, в книге «Тяжелые личностные расстройства: стратегии психотерапии» предлагает следующие критерии для определения зрелой личности [9]:
Структурные критерии:
- структура личности содержит защитные механизмы высокого уровня;
- в структуре личности хорошо интегрированы Супер-Эго и Эго.
Личностные критерии:
- человек способен к тестированию реальности;
- все Я-образы, интегрированные в цельное Я, и все «хорошие» и «плохие» образы других интегрированы в цельные образы;
- индивид имеет четкий барьер между Я и другими - достаточная дифференциация Я-репрезентаций от объект-репрезентаций.
Социальные критерии:
- отношения со значимыми другими характеризуются как стабильные и глубокие, что проявляется в душевном тепле, преданности, заботе и уважении;
- человек способен сохранять взаимоотношения в период конфликтов и фрустраций.
- Все это, по мнению О. Кернберга, говорит о хорошо интегрированной идентичности.
Для лучшего понимания термина «идентичность», обратимся к трудам Э. Эриксона. Признаки здоровой идентичности у Эриксона размыты, но достаточно выделены отклонения.
При патологии идентичности, по Эриксону, наблюдаются следующие проявления:
- регрессия к инфантильному уровню и желание как можно дольше отсрочить обретение взрослого статуса;
- смутное, но устойчивое состояние тревоги;
- чувство изоляции и опустошенности;
- постоянное пребывание в состоянии ожидания чего-то такого, что может изменить жизнь;
- страх перед личным общением и неспособность эмоционально воздействовать на лиц другого пола;
- враждебность и презрение ко всем общественным ролям, вплоть до мужских и женских;
- презрение ко всему отечественному и иррациональное предпочтение всего иностранного (по принципу «хорошо там, где нас нет»).
В крайних проявлениях потери идентичности имеет место поиск негативной идентичности, что выражается в стремлении «стать ничем» как единственный возможный способ самоутверждения [13].
Френк Йоманс, Джон Кларкин и Отто Кернберг в клиническом руководстве по психотерапии, фокусированной на переносе, при пограничном расстройстве личности отмечают «Индивид с нормальной организацией личности, прежде всего, обладает интегрированным и стабильным представлением о себе и значимых других, что находит свое выражение в понятии идентичности. Оно включает в себя как внутреннее стабильное чувство Я, так и поведение, отражающее связанность Я. Это связанное Я является основой самооценки, наслаждения, способности к получению удовольствия от отношений с другими и от вовлеченности в работу, а также чувства непрерывности времени» [7].
Означает ли это, что любое отклонение от критериев здоровой личности, приведенных выше, является показателем включения человека, обратившегося за психологической помощью, в группу?
«Болезнь индивидуума всегда соответствует нарушениям внутри сети, потому болезнь и должна лечиться внутри группы... Болезнь появляется тогда, когда индивидуум в качестве узлового пункта группы становится фокусом нарушенных интероперсональных процессов. Невротическая позиция в огромной степени характеризуется индивидуализмом, становясь потенциально деструктивной по отношению к группе» [1].
«Симптомы побуждают индивидуума к его специфической симптоматике как раз потому, что они сами по себе аутистичны и явно не подходят для того, чтобы быть разделёнными с другими людьми. Поскольку индивидуум оказывается не способным коммуникационно-дружественным способом проявить то, что скрывается за симптомом, он не может избавиться от страданий», - писал Фоулкс в 1948 году.
Однако, по мнению Кернберга существуют факторы, представляющие угрозу для психотерапии, которые стоит принимать во внимание в прогнозировании лечения с каждым конкретным потенциальным пациентом. Данные факторы на международном семинаре, просвещённом теме «Нарциссические личностные расстройства» (Санкт-Петербург, 2016 г.), были приведены доктором Кернбергом как ограничения к индивидуальной психотерапии, но думаю, они справедливы и для группового анализа, поэтому привожу их ниже.
Угрозы психотерапии [8]:
- суицидальные и саморазрушительные типы поведения;
- действия или импульсы, нацеленные на убийство, в том числе угрозы в адрес терапевта;
- ложь или утаивание сведений;
- злоупотребление веществами (наркотическими, медикаментами, алкоголем и т.п.);
- неконтролируемые пищевые расстройства;
- нерегулярность посещений;
- неоплата сессий, подстраивающие ситуации невозможности оплаты;
- проблемы, созданные вне сессий, мешающие курсу терапии;
- хронически пассивный образ жизни, предпочтение вторичной выгоды от болезни.
Здесь же я считаю необходимым привести цитату Винникотта из его статьи о контрпереносе, опубликованной в британском журнале «Медицинская психология» от 1960 года: «При подготовке психоаналитиков и подобных специалистов мы не должны ставить обучающихся в такое положение, где они имели бы дело с примитивными потребностями пациентов с психопатическими состояниями, так как не многие были бы в состоянии выдержать это и чему-то научиться на основании этого опыта» [5]. В частности, пациентов с антисоциальной тенденцией и пациентов, нуждающихся в регрессии, Винникотт приводит как примеры сложных случаев работы для начинающего специалиста. Приведу еще слова Неси Мак-Вильямс: «Применение любого подхода, который предполагает неоднозначные решения, как делает традиционная психоаналитическая терапия <…>, похожи на попытки тушения пожара психотического страха бензином» [10].
Продолжая данную логику, думаю, что мне как начинающему специалисту, стоит избегать при формировании группы включение в неё пациентов с признаками психотической организации личности. И привожу их ниже [9]:
- Я-репрезентации и объект-репрезентации нечётко разграничены;
- бредовая идентичность;
- действие ранних защитных механизмов, защищающих пациента от дезинтеграции и от смещения Я и объекта;
- интерпретации приводят к вытеснению;
- способность к тестированию реальности утеряна.
Таким образом, прежде чем удовлетворять желание человека посещать групповую психотерапию или рекомендовать потенциальному пациенту работу в группе, необходимо убедится, что он сможет создавать коммуникации, основанные на реальности, что даст возможность построить ему и группе полноценный диалог, направленный на создание рабочей группы. В противном случае, специалист ставит себя и группу в ситуацию «обслуживания» индивида, и группа превращается в инструмент поддержки и «вскармливания» одного пациента, в ущерб рабочему процессу и интересам других участников. «Мы предполагаем, что у пациента, которому показан психоанализ, как минимум нормальный интеллект, умеренная патология объектных отношений, и нет серьезных антисоциальных тенденций, присутствует адекватная мотивация для терапии и есть способности к самонаблюдению или к инсайту. У него не должно быть неспецифических проявлений слабости Эго» [9].
Я знаю, как горячо желание начинающего группаналитика побыстрее собрать и наполнить группу, однако не стоит спешить приглашать пациентов с признаками психотической организации личности или с признаками поведения, представляющим угрозу для психотерапевтического процесса, работать в группу, чтобы не подвергать себя и ее участников опасности распада рабочего процесса и всей группы. Кроме того, раннее приглашение пациента в группу может негативным образом сказаться на здоровье самого человека. Например, привести его к глубокому регрессивному состоянию, усилить его психосоматические проявления или другие деструктивные тенденции. «Признание ограничений всегда честно, хотя и болезненно для обеих сторон. Альтернатива - если заставить себя и/или своего клиента поверить, что можно провести эффективное лечение с кем угодно независимо от очевидных внешних ограничений, - чревата самообвинениями для обоих участников…» [10].
Поэтому важно проводить индивидуальные встречи с потенциальным участником группы, на которых внимательно наблюдая за пациентом и проводя первичное интервью, можно убедится в возможности человека работать в группе. «Отбор пациентов для группо-аналитической терапии, в общем-то, направляется глубинно-психологическим подходом, и не в малой степени психодинамическим первичным интервью» - говорит Фоулкс [6]. В случае сомнений, я предлагаю остаться в поле индивидуального консультирования до прояснения смущающих меня аспектов и полной уверенности о полезности для пациента группового метода работы.
Итак, я сама с собой договорилась, что необходима процедура, которая позволит мне и потенциальному участнику группы понять, возможна ли для него группа как метод психотерапевтической работы. Такой процедурой является первичное интервью. Кроме решения обозначенной задачи, первичное интервью, на мой взгляд, может решать еще ряд важных вопросов:
- Провести подробный анализ причин, по которым человек хочет пойти работать в группу, его представления о групповой психотерапии, возможные опасения, а также ожидания и фантазии.
- Обсудить готовность пациента к групповому анализу и его продолжительность, - тема тревожная, на мой взгляд, как для группаналитика, так и для пациента. Стоит обратить внимание на характер переживаний и ожиданий пациента и подробно обсудить их. По моим наблюдениям, переживания самого терапевта, вызванные набором группы, настолько сильны и противоречивы (желание и страх), что тема продолжительности анализа остается за рамками обсуждения. Здесь хочу привести цитату Мак-Вильямс: «редко кто расстраивается, услышав, например, что с учетом анамнеза и текущего состояния психотерапия может занять много времени, прежде чем будут достигнуты надежные внутренне ощутимые изменения. Большинство людей скорее воодушевляет мысль, что терапевт осознает глубину их проблем и готов самоотверженно пройти большой путь» [10].
Прорабатывая все обозначенные темы в первичном интервью, группаналитик формирует свое представление о готовности пациента к лечению в группе, работает с представлениями пациента о работе в группе, возможной продолжительности лечения, что на мой взгляд, является профилактикой рисков ухода пациентов из группы. Приведу иллюстрацию из опыта своей тренинговой группы.
И вот группа сформирована. Мое состояние в ожидании первой встречи - смесь возбуждения, страха, непонимания, неуверенности и радости. Поучилось собрать! … И что теперь делать?
Из теории я помнила: «Руководитель группы имеет две чётко различающихся задачи, каждая из которых в равной степени важна: одна из них связана с тем, что руководитель должен активно заботиться о группе, а вторая функция руководителя связана с терапевтической активностью внутри группы. Если руководитель обращает внимание на групповой сеанс, тогда он активно и динамично выполняет свою службу. Он берёт на себя ответственность за создание и поддержание для работы группы оптимальных рамок, постоянно обращая внимание и защищая границы группы, так что терапевтический процесс может беспрепятственно развиваться» [1].
Ещё одна задача группаналитика состоит в том, чтобы удерживать работу группы, осуществляя динамическое управление в трех плоскостях: структура, процесс, и содержание.
«Структура: относится к тем паттернам взаимоотношений, которые оказываются внутри группы более-менее стабильными и постоянными. Такие паттерны соответствуют хорошо знакомым ролям, разыгрываемым отдельными участниками и хорошо проявляющимися во взаимоотношениях членов группы. Примерами этого являются коалиции с формированием подгрупп и расколов, возникающих между отдельными подгруппами. Психическая структура группы формируется медленно, зато потом она образует постоянный фундамент для проведения особой формы терапии, типичной для группо-аналитического метода.
Процесс: ему соответствуют динамические компоненты группы, состоящие в том, что изменения происходят очень быстро и находятся в постоянном потоке. Групповой процесс манифестируется как интеракция всех элементов в имеющейся актуальной ситуации, включая обратные связи, вербальную и невербальную коммуникацию.
Содержание: групповой аналитик следит за содержанием коммуникации с тем же самым вниманием, с которым он наблюдает за структурой и процессом группы. При этом латентный материал появляется в той степени, в которой анализируется материал, обнаруживаемый в структуре и процессе» [1].
Знания вызывали скорее беспомощность с непониманием, как это воплотить в практике, чем успокаивали. Я выбрала путь - сосредоточится на сеттинге. Скорее всего, моё решение было продиктовано тем, что это была самая понятная для меня часть работы «дирижёра»: организация помещения, где расположится «оркестр»; определение количества человек в группе; выбор «инструментов»; определение времени «репетиций»; создание рамок правилами:
- организационными (оплата, пропуски);
- и правилами безопасности (конфиденциальность, контакты, возможности «звучать» и «молчать»).
Я сильно уповала на то, что в условиях сеттинга мелодия возникнет сама - из «звуков» душ и «звуков» тишины.
В моем арсенале был маленький кабинет, который находится в частном доме. Мебель в этом кабинете была «разношерстой»: кушетка, офисный диван на 2 места, 3 пуфа и офисное кресло. Место для ожидания сессии - коридор, в котором находились вешалка для верхней одежды и пуф-скамейка. Туалетная комната. В состав группы входили 5 участников группы, включая меня - ведущего. Никто из будущих участников группы не посещал индивидуальные сессии у меня. Три человека из четырех прошли первичное собеседование. Два из четырех - в период с 1999 года по 2001 год посещали подростковые группы, которые вела я, работая в системе образования, но были друг с другом не знакомы. Один участник пришел на групповую терапию из организации, с которой я в то время работала как психолог управления.
Организация сеттинга тренинговой группы состояла из следующих решений, воплощенных в жизнь:
Организовать доступность во время ожидания начала сессии группы всех описанных выше помещений (коридор, туалетная комната, кабинет).
По центру кабинета в равном удалении от всех участников, поставить журнальный столик, на который поместить контейнер с салфетками, графин с питьевой водой и стаканы. Данное решение было продиктовано географическими обстоятельствами - место проведения группы находилось в 1200 метрах от ближайшей остановки общественного транспорта, кроме того, дорога от остановки поднималась в гору. Зимой вода, возможно, не имела большого значения, но летом она мне показалась необходимостью.
Группа будет встречаться один раз в неделю (суббота) с продолжительностью сессии в 1,5 часа. Сразу хочу обозначить проблему с выбором для времени группы выходного дня. Решение проводить группу в выходной день продиктовано неуверенностью «молодого» специалиста в том, что группа состоится, а ее участники реально заинтересованы желанием меняться. Назначая группу в выходной день, я шла по пути «малого сопротивления», руководствуясь фантазией, что трудности рабочих будней будут использоваться участниками как существенное ограничение и помешают участникам прибыть на группу.
В дальнейшем, опыт ведения групп показал, что все группы (а их было 3), которые начинались в выходной день, в последствии «переезжали» на будни. Необходимость изменения дня и времени прохождения группы создавала условия для повышения тревоги участников группы, провоцировала ощущения небезопасности, отбрасывало группу в параноидно-шизоидную позицию, характерную для начала динамического процесса, создавала угрозу раскола группы и выхода из неё участников.
Расписание сессий озвучивалось в конце каждого месяца. Праздничные дни я решила не пропускать. В случае, когда я отсутствую на сессии (уезжаю на учебу в Новосибирский институт группового анализа, участвую в конференциях по психоанализу и группанализу, ухожу в отпуска), группа может встречаться без меня. Но это не было провозглашено как обязательное правило. Каждый раз группа сама решала, будут ли они встречаться без ведущего в течение нескольких сессий до моего отъезда.
Вначале нашей работы группа не встречалась без меня, потом стала встречаться иногда. И только на 4 году ведения группы, я осмелилась встречи без ведущего ввести как правило работы группы. «Я закончу упоминанием самого мощного инструмента для получения доли власти, а именно - сессий в отсутствие ведущего» [4]. Видимо, я 3 года училась и готовилась поделиться властью ведущего. И было не важно, что я озвучивала такую возможность, мои внутренние опасения «считывались» участниками, группа отвечала тревогой на мой отъезд и воспринимала меня как единственную единицу «безопасности и полезности», отрицая данные качества в группе. В тот период я себе не позволила исследовать группу в моменте: «…вы узнаете какую часть вас они все еще используют в качестве «мира вокруг них», а в какой мере они уже справились сами» [4].
Другой важный момент в расписании группы - ежегодный отпуск. На первом году ведения группы, я предоставила группе возможность самой решить, в какие 4 недели мы возьмем отпуск. Эта идея не оказалась хорошей: участники группы очень долго договаривались о датах отпуска, в итоге решение скорее было продиктовано необходимостью - в ноябре, так как год группы начинался с января. На следующий год я сама назначила даты отпуска и озвучила их вначале года, что, на мой взгляд, добавило устойчивости в работе группы.
Одной из своих ближайших задач в установлении и удержании сеттинга я видела дополнение группы до 6 участников, поэтому модель группы мною определялась как полуоткрытая. «Большинство группо-аналитических групп являются полуоткрытыми (slow-open): члены группы вступают в неё в подходящее для них время, да и покидают её, когда захотят, а группа продолжает жить дальше. Новые члены начинают «писать» историю группы, а те, кто уже её оставил, по-прежнему остаются представленными в групповой матрице. В результате возникает культура, гармонически связанная с другими процессами жизни». «Малая группа, которая, как правило, состоит из 6-9 человек, считается оптимальной по своей величине для проведения углубленной и всесторонней аналитической терапии. При таком количестве участников сохраняется контакт face-to-face, и у каждого из участников сохраняется возможность себя проявить. У меньшей по объёму группы будет меньше витальных ресурсов, чтобы олицетворять социальную норму, да и матрица будет слабой» [1]. С этой задачей мне удалось справиться уже к августу (группа начала свою работу в январе).
Количество посадочных мест регулируется выносом/вносом пуфов. «Руководитель группы не упускает того, чтобы следить за такими мелочами как наличие одинаковых стульев, причём их должно быть столько, сколько ожидается участников» [1]. Однако, мебель в кабинете заменять я не стала. Участникам группы предлагались разные посадочные места, включающие диваны и пуфы.
До сих пор в кабинете стоит такая мебель. Как это влияет на групповой процесс, какие чувства и эмоции у участников вызывает тот факт, что они сидят на разных сиденьях? Мне трудно об этом судить. Иногда участники говорили о том, меняются ли они местами или обращали внимание на то, кто где сидит по отношению к другим участникам и по отношению к ведущему. Всегда этот разговор вытекал из темы «посмотреть на группу с другой стороны». Вопросы зависти, ревности или равенства у участников группы возникали, но они не касались при этом разности самих мест, а затрагивали темы близости к ведущему, его внимания; времени, которое каждый участник «забирает себе» и оплаты.
У меня есть опасения или даже ожидание, что в другой группе, с другими участниками столь разные места могут стать привнесенным элементом неравенства, неудобства, вызвать какие-либо чувства по этому поводу. Предлагая разные места группе, я готова была обсуждать и исследовать чувства участников и по этим вопросам. Разве жизнь предлагает нам равные условия? И хотя я считаю это условие сеттинга непроясненным для себя на практике, в своем новом будущем кабинете для групповой работы планирую поставить одинаковые кресла для всех участников, - и да, есть в этом для меня нечто давящее и властное от авторитетной позиции мэтров группанализа.
Оплата группы производится в первую сессию месяца за весь месяц работы. Г. Ван дер Кляй в статье «Сеттинг группы» пишет об оплате группы следующее: «Это их (членов группы) шанс «участвовать» в создании нормального сеттинга группы, и если я устанавливаю слишком низкую цену за этот шанс, запросив слишком мало, они чувствуют себя раздавленными. Высокая плата говорит не столько о моей жадности, сколько о важности самого сеттинга, и члены группы достаточно быстро соображают, что мой доход кажется очень высоким, если его исчислять в часах, но он вполне в разумных пределах, если мы все договорились, что эта еженедельная сессия - самая важная часть их жизни и поэтому заслуживает любой защиты, которую можно обеспечить ей за деньги» [4].
Однако, в назначении оплаты есть другая сторона - чувства самого ведущего. Мне было важно, чтобы оплата, назначенная за группу внутренне давала спокойствие и чувство, что, с одной стороны, я «отрабатываю» взятые с участников деньги, с другой - я бы не чувствовала «ущемления» себя. Я назначила стоимость групповой сессии в 2 раза ниже, чем индивидуальная сессия, сочтя в тот момент, что это достойная оплата начинающего специалиста.
Самым сложным моментом для меня, неожиданно, оказалось введение групповых правил. Я решила, что на первой сессии стоит подробно обсудить с участниками правила группы: оплата своевременна, пропуски оплачиваются; контакты за пределами группы нежелательны, а если вдруг отношения случились, то об этом говорим на группе; прикосновения во время работы группы не допускаются - все выражаем словами: боль, скорбь, жалость, поддержку, злость, раздражение, любовь; день недели и время встречи группы закреплено - не переносится по желанию участников; все что произнесено в этом кабинете остаётся здесь - мы не сообщаем людям за пределами группы имена, фамилии, содержание разговоров; все что родилось в группе возвращается в группу - мы не производим действий, не делимся эмоциями, рожденными на сессии, за ее пределами, а приносим их на следующую сессию, так как это важно для динамики группы, важно для процесса лечения.
Неожиданно для меня участники группы предложили ввести еще два правила: ограничение на пользование телефоном во время сессий и организовать чат группы в одном из мессенджеров для того, чтобы быстро оповещать всех участников о каких-то важных административно-организационных вещах. Взяв паузу, чтобы подумать над возникшими в группе инициативами и обсудив их на супервизорской группе, я приняла оба правила, предложенные участниками.
Устойчивый сеттинг даёт возможность участнику группы ощутить ее как предсказуемую и надежную социальную среду, где могут зародиться доверие и образоваться привязанности, подобно тому, как в родительской семье (базовой матрице) предсказуемое поведение матери, по мнению Боулби, обеспечивает надежную привязанность в отношениях ребёнка, обеспечивая его доверие к Миру за пределами родительской семьи [3].
Важно, чтобы правила проведения группы, условия и среда, в которых она существует, неизбежно сохранялись. А в случае необходимых изменений ведущий группы заранее продумывает, как данные изменения необходимо произвести, как об этом он оповестит группу, сколько времени потратит на обсуждение изменений с участниками, прежде чем изменения будут введены.
Также важно в случае ошибок, допущенных ведущим в отношении правил и условий сеттинга, понимать, как они могут быть исправлены и уделить достаточное внимание тому, чтобы участники поняли, почему то или иное правило/условие изменилось. Например, мною была допущена ошибка, связанная с оплатой сессий, на которых я не присутствовала. Участники группы оплачивали только сумму, соответствовавшую аренде помещения, в котором проходила группа. На одной из супервизий этот вопрос «всплыл» и я для себя прояснила, что данное правило оплаты ошибочно. Вернувшись в группу, я объявила, что в следующий раз, когда группа будет встречаться без меня, условия оплаты этой сессии будут иные и объяснила это моим изменившимся пониманием своей роли ведущего - что несмотря на то, что меня нет, я как и любой другой участник группы незримо присутствую в процессе и таким образом продолжаю обеспечивать условия и правила прохождения сессии. Далее участники группы в течение нескольких сессий возвращались к обсуждению роли ведущего и к пониманию собственных позиций в группе. А следующая сессия при моем отсутствии была оплачена по новым правилам и это нововведение уже не вызвало протеста.
После «освоения» первого этапа – установления сеттинга - когда забота о нём стала более-менее понятной, я почувствовала: «если я не сосредоточусь на «нотах», то утону в какофонии звуков».
Не стоит забывать, что человек, готовый прийти работать в психоаналитическую группу, уже многое сделал для воплощения своего стремления: пришел на индивидуальное собеседование и, возможно, какое-то время ходил на индивидуальное консультирование; освободил время для посещений группы от своих привычных жизненных дел; преодолел страх и смущение, чтобы приходить на встречи с группой и говорить на них; согласился с правилами группы; в конце концов, оплатил первых 4-5 групповых занятий заранее, еще не зная, за что он платит.
Что же должна сделать я? Какова моя роль - могу ли я дать что-то, что оправдает доверие ко мне человека?
Первая моя реакция: я еще ничего не дала этому человеку, а ДОЛЖНА дать. Но как и что? - еще неуверенная ни в чём: ни в себе и ни в своих силах, ещё сама неустойчивая, ищущая свой стиль, свои слова…
Страх перед первыми сессиями был так силен, что я не помню, как они прошли. Почему-то я помню картинку, как сидели участники, но не со своего места, а так, как будто я сидела на месте одного из участников. Сейчас я думаю, что мне было проще почувствовать себя в роли участника, а не ведущего.
Далее, я постараюсь сформулировать, что мне помогло не впадать в панику и удерживать процесс и содержание группы.
Первоначальная семейная группа предопределяет рисунок нарушенных интерперсональных процессов. Вырастая из семьи и становясь участником широких социальных коммуникаций, человек проецирует свой внутренний конфликт на участников социальных отношений. «Симптомы побуждают индивидуума к его специфической симптоматике как раз потому, что они сами по себе аутистичны и явно не подходят для того, чтобы быть разделёнными с другими людьми. Поскольку индивидуум оказывается не способным коммуникационно-дружественным способом проявить то, что скрывается за симптомом, он не может избавиться от страданий… Больному индивидууму приходится вновь и вновь делать усилия, пока не удастся перевести симптом на социально-приемлемый, членораздельный язык. Симптом только тогда становится понятным остальным членам группы, когда энергия (либидо), связанная в нём, становится чем-то таким, что может обмениваться во взаимоотношениях членов группы» [1].
Таким образом, и Фрейд и Фоулкс обращают наше внимание на значение «родственных связей» в формировании индивидуальных черт, влияющих на отношения человека в различных группах. Сформированное в семье возвращается опять в социум индивидуумом и может быть разделено другими. Фоулкс, удерживая позиции индивидуума в группе и его коммуникации в группе, создал концепцию групповой матрицы.
Не пытаясь охватить необъятное, я для себя приняла тезис: в динамической матрице группы, ее участники будут взаимодействовать, демонстрируя усвоенные в родительских семьях стереотипные реакции, невыносимые переживания, требования и ожидания (базовую матрицу). Своей задачей, исходя из этого, я видела создание таких условий в группе, где данные реакции могут не только свободно проявиться, но и встретиться с иными (не такими как в родительской семье) реакциями группы и ведущего. «Терапевтический процесс, говоря образно, соответствует путешествию, начинающегося с симптома, приводящего к конфликту и заканчивающемуся разрешением конфликта. Чем дольше длится путешествие, тем лучше становится способность к коммуникации» [1].
Три важных слова: самонаблюдение, надежность, предсказуемость.
Как создать такие условия? Первое правило, которое я старалась выдерживать в работе с тренинговой группой – не реагируй сразу! Просто наблюдай, запоминай и думай. Не скажу, что это запросто удавалось. Чувства неуверенности и растерянности часто заставляли меня «пояснять» или «вмешиваться» в нормальное течение группового процесса, страх «отпустить» заставлял «контролировать» и «направлять». Сама, будучи несамостоятельной, не могла позволить группе быть самостоятельной. Но я старалась минимизировать свое участие, напоминая себе о первом правиле. И всё чаще и чаще у меня получалось. Как будто я осваивала медитативную технику, постепенно научаясь расслабляться и наблюдать за собой.
Со своими наблюдениями и непониманиями я приходила на супервизии. «Супервизия групп – это работа контрпереноса», – говорит Михаэль Лукас Мёллер в работе «Контрперенос в групп-анализе» [6]. Очень сложно понимать, где контрперенос. Супервизия – то место, которое позволяет посмотреть объёмно на конкретный случай в группе и контейнирует тревогу.
«Часть и целое, фигура и фон постоянно находятся в многосторонних взаимоотношениях друг с другом. Взгляд с этой перспективы явно будет приводить к огромным упрощениям, когда, например, утверждается, что целое (группа) «больше» его частей, приходя к игнорированию вклада индивидуума в групповой анализ, или что индивидуум служит группе. На самом деле наш подход может быть только «атомистическим» и работаем мы с частью. Хотя Гольдштайн прав, когда утверждает, что, игнорируя целое, мы видим части в изменённом свете. Это приводит Гольдштайна к выводу, что необходимо исследовать и то, и другое, а именно целое и его части, причём делать это в соответственно заданных условиях. Схожим образом, работая с терапевтической группой, мы постоянно смещаем наше внимание с индивидуума на группу, и обратно» [1].
В работах Д.В. Винникотта и Дж. Боулби достаточно хорошо описаны поведение матери и отца по отношению к младенцу, которое приводит к успешному развитию психологически и физически здорового ребенка.
Однако в данной работе я бы хотела остановиться на аналогичных действиях ведущего группы, действиях, которые могут привести к развитию группового процесса, способствующего изменениям в участниках группы. «В центре этой книги находится пациент в группе. Когда мы лечим пациента психотерапевтически, то это подразумевает под собой, что он должен измениться» [14].
В начальной стадии работы группы группаналитик встречает множество задач, которые необходимо решать. Практически все эти задачи встречаются и на других стадиях развития группы, но в начале от их решения зависит жизнь группы. Это преодоление сопротивления, защита границ, создание атмосферы поддержки, защищенности и надежности.
«..Зависимость от дирижёра имеет жизненную и реалистическую функцию в начале группы» [11]. Нитсан сравнивает в это время ведущего с матерью, кормящей грудью младенца: «эта функция поддержки». Ведущий нужен, «чтобы ощутимо помочь группе почувствовать себя в безопасности, чётко определить проблемы границ. <…> Важно, что терапевт признает зависимость группы и учитывает её без лишних споров или неуместной конфронтации» [11].
«Аспект этой функции в ранней группе затрагивает уважение к группе на её пока ещё бесформенной и неинтегрированной стадии. Эта восприимчивость требует, чтобы дирижёр не принимал опрометчивых решений по группе, посредством действий, интерпретаций или других сообщений» [11]. Так М. Нитсан проводит параллель между процессом администрирования группы на ранних стадиях и материнскую заботу о малыше в создании для него особых условий, описанную Винникоттом.
Очень важно психическое состояние терапевта, отмечает Нитсан, чем спокойнее ведущий, тем легче он может выполнять содержательную функцию. Степень, до которой ведущий может «заразиться» тревогой или другими эмоциями от участников группы, зависит от того, насколько ведущий может справляться с подобными состояниями в прошлом и как контактирует с существующей группой – «всеми явлениями контрпереноса, которые дирижёр должен быть в состоянии выявить, чтобы оставаться связанным с группой и в то же время держаться на достаточном расстоянии для обеспечения окружения поддержки». Здесь важным моментом является способность ведущего группы создать поддержку для себя, т.е. быть вовлеченным в профессиональное сообщество, иметь возможность получать поддержку на супервизиях. Где супервизии выполняют роль отца семейства, поддерживающего мать, кормящую и удерживающую младенца.
Однако «Даже наиболее хорошо мотивированный пациент находится во власти сознательных и бессознательных сил, которые с огромной силой сопротивляются любому изменению, даже если оно во благо. Большей частью эти инерционные силы бессознательны» [14]. Поэтому помимо создания и обеспечения надежной и поддерживающей атмосферы на группе ведущий постоянно должен заботиться о мотивационной части задачи. Тонко улавливать мотивационные изменения у участников группы, обращать на них внимание, задумываться об их причинах и искать способы прорабатывать напряжения участника по отношению к терапевтическому процессу, ведущему и группе.
Прежде всего необходимо продумать все аспекты того, какую группу вы планируете вести: формат группы, её участники и их количество, где и когда она будет проходить, её оплата и правила посещения, а также правила взаимодействия. Всё, что касается сеттинга группы. Уже на этом этапе полезны участия в супервизиях и интервизиях.
Затем нельзя игнорировать этап предварительных собеседований, так как именно на этом этапе решаются важные профилактические вопросы. Брать ли данного пациента в группу, мотивация и настрой будущего участника группы на групповой метод терапии, проработка страхов и предварительное знакомство с правилами – минимальный ряд тем, которые стоит обсудить на предварительном интервью.
Запуск и ведение первой группы необходимо проводить под наблюдением супервизий. Это поможет вам начать различать сложные групповые процессы, увидеть динамику группы, проанализировать свои контрпереносные реакции и определить тактику своего взаимодействия с группой.
Библиография:
- Бер Х.Л., Херст Л.Е., Ван дер Кляй Г. Метод группового анализа Фоулкса. 1985, Источник: Copyright © 2021 Практическая Психодинамика. All Rights Reserved
- Берн Э. «Групповое лечение», Екатеринбург: Изд-во «ЛИТУР», 2003
- Боулби Дж. Привязанность/Перевод с английского Н.Г.Григорьевой и Г.В.Бурменской. – МОСКВА, 2003.
- Ван дер Кляй Г. Сеттинг группы/статья
- Винникотт Д.В. Ненависть в контрпереносе/Британский журнал «Медицинская психология», 1960.
- Групповой анализ. Теория – техника – применения/Перевод М.М. Сокольская, научная и общая редакция Д.М. Шанаева. – М.: Издательство «VERTE», 2009
- Йоманс Ф., Кларкин Д.,Кернберг О. Психотерапия, фокусированная на переносе, при пограничном расстройстве личности. Клиническое руководство. М. 2018
- Кернберг О.Ф. Нарциссические личностные расстройства/ семинар - Санкт-Петербург, 2016
- Кернберг О.Ф. Тяжелые личностные расстройства: стратегии психотерапии. - М. Независимая фирма «Класс», 2014
- Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности в клиническом процессе. - М. Независимая фирма «Класс», 2016
- Нитсан М. Ранние развитие: связь индивидуума и группы/Перевод Натарова В. – электронный ресурс: http://groupanalysis.narod.ru/nitsun2.html.
- Психология масс. Хрестоматия./под ред. Райгородского Д.Я. – Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2010
- Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис, М.: Издательская группа прогресс 1996
- Practicum of group psychotherapy. Asya L. Kadis, Jack D. Krasner, Myron F. Weiner, Charles Winick, S. H. Foulkes NY. 1963 – эллектронный ресурс: Copyright © 2001 Николаев Виктор И., Матяш Ольга В. http://psychoanalyse. narod.ru/practic1.htm